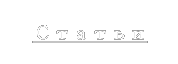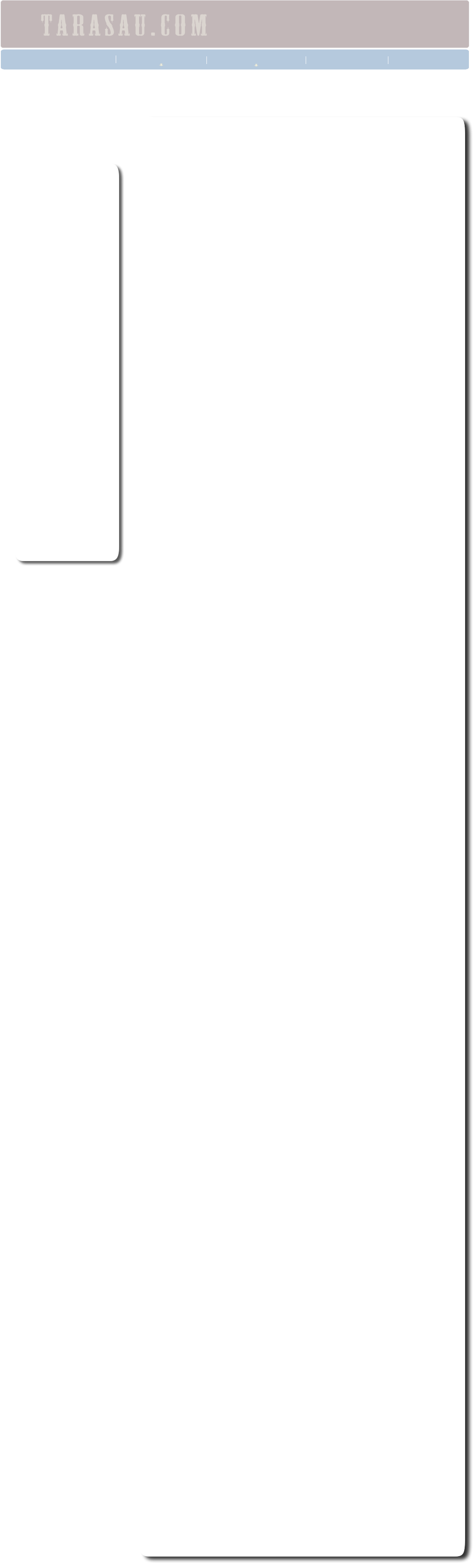

В печати
![]() "Странствие в тесном кругу": повести. — Минск, Мастацкая літаратура, 1986 (под назв. "Милость для атеиста, или Странствие в тесном кругу").
"Странствие в тесном кругу": повести. — Минск, Мастацкая літаратура, 1986 (под назв. "Милость для атеиста, или Странствие в тесном кругу").
![]() "Три жизни княгини Ронеды": повести. — Минск, Коллегиум, 1994 (под назв. "Милость для атеиста).
"Три жизни княгини Ронеды": повести. — Минск, Коллегиум, 1994 (под назв. "Милость для атеиста).
Белорусский вариант повести не публиковался.
На сайте публикуется фрагмент последней авторской редакции повести с новым названием "Монстр". Приводится на основании рукописи.
I
В шестом часу ударил колокол на костеле св. Яна, и тяжелый звон промерзшей бронзы поплыл в колкой, морозной темноте над королевским замком, узкими улицами, сенаторскими и епископскими дворцами, над крепостными башнями, в которых додремывала стража, над монастырскими подворьями, тесными мещанскими избами, над корчмами, где вповалку на соломе спала съехавшаяся на сейм шляхта, и этот костельный призыв к молитве достиг зарешеченных окон маршалковской тюрьмы и полупридушенным отголоском вполз сквозь оконную щель в подвал, обрывая ночное забытье узника, которому угрожало аутодафе.
Но приговор еще не прозвучал, еще дело слушалось сеймом, еще выступали обвинители и адвокат, еще сомневался король, а епископы настойчиво ломали это сомнение, и надежда — эта великая обманщица всех обреченных — еще морочила друзей узника иллюзиями возможной справедливости суда и шляхетского благородства при голосовании.
Но самого узника вера в добрый исход уже не обманывала, и костельный звон, пробудивший его в ранний час десятого марта, послышался ему возмещением конца. Тьма и тишина вечности стояли в коморе и во всей тюрьме, и унылый голос колокола протекал с поверхности земли через каменную отдушину в глубокий подвал, как в могильный склеп. Сон, еще не рассеявшийся, и беды, горечь, страдания, пережитые за последние полтора года в трех тюрьмах, сложились вдруг в ясное осознание неизбежной гибели. Минуту, короткую минуту на пути из сна в явь держалась в нем эта безутешная ясность полного одиночества, бессилия, оборванной жизни. Он увидел себя на груде хвороста среди вспыхнувших ржаных снопов, беспощадная стихия огня взметнулась вокруг, и эта вспышка вернула ему волю. «Не я первый», — подумал он, недовольный таившимся в душе страхом. «Я свое пожил, — подумал он утешительно. — Пожил я подольше многих, лучших, чем я, а сделал меньше. Вот о чем стоит горевать». Он представил себя посторонними глазами: высокий исхудалый мужчина пятидесяти пяти лет, седовласый, с черной неподстриженной бородой, с высоким, в четыре резких морщины лбом, с темными глазами, которые многое повидали и теперь все видят насквозь...
Тут он припомнил, что сегодня на церковном календаре день Грегория Великого, и, следовательно, сегодня день именин всех Грегоров и Григориев, и что погребальный звон на иезуитском костеле не что иное как напоминание всем именинникам о необходимости помолиться своему небесному патрону. Неделю назад такой же звон звал поутру в костел всех Казимиров. А сейчас в храмы божьи спешат, зажав в кулаке несколько серебряных монет, Грегоры, Гриньки, Гришки. И если каждый из них опустит в костельную скарбонку посильный денежный взнос, то к вечеру шайка паразитов, прилепившихся к Христу, как мухи к меду, станет намного богаче и сильнее, чем была утром. А завтра день девы Кристины, а там святого Яцка, Роха, Текли, Вацлава, и так все триста шестьдесят пять дней от Адама и Евы двадцать четвертого декабря по Стефана-первомученика. Только двадцать девятое февраля, раз в четыре года, свободно от мзды... Власть и деньги — вот вся загадка нашей церкви, вся ее мистическая связь с богом. Чем выше церковная должность — тем большая власть и больший доход. И вдруг арианский философ! Да еще с трактатом, с пропагандой на собственной кафедре!
И представилось, скольких и как убили, какого таланта людей сбыли со света ханжи и сребролюбцы, и горячая волна возмущения прошла по телу, смывая следы недавнего бессилия и обреченности. Выбраться бы из этой смертной коморы, получить в руки перо, да все о них рассказать — о епископах и иезуитах, убийцах и вымогателях, все выложить без оглядки по сторонам и без жалости, потому что нет никого, кого бы они пожалели. Есть ли хоть один философ, вами прощенный? Нет, ни единого не сыщется, все затравлены или перебиты.
Лыщинский вытянул из-под кожуха руку и дотронулся до медного распятья, намертво прибитого к стене. Комора за ночь выстудилась, и распятье отдало резким холодом, словно отлитое изо льда. «Висишь, несчастный, — сочувственно подумал Лыщинский. — Распяли, объявили божьим сыном — и вот уже полторы тысячи лет безумствуют во имя твое...» Смирение и деньги, и возлюби притеснителя своего, обманщика, который тебе сказки рассказывает про загробную жизнь; не забудь о нем и перед кончиной — хоть часть имущества отпиши. Это долг верующего перед церковью...
Лыщинский улыбнулся, вспомнив допрос у виленского епископа Бжостовского в ноябре позапрошлого года. Поджарый, остролицый епископ сверлил его по-волчьи узко посаженными глазами, а обок епископа сидели два иезуита с каменными лицами, передавая друг другу его трактат, чтобы зачитать обвинительную цитату. При этом левый говорил: «А вот еще один перл безумия!», а правый, поглядывая на епископа, чуть ли не вонзал в лист указательный палец: «Или такое кощунство!» Вдруг спросили, достав из стопки бумаг плотный желтый лист: «Вот завещание, в котором ты, грешник, назначаешь дочери двадцать тысяч злотых, разным дворовым мужикам и бабам по триста талеров, а на нужды приходского костела — три талера. Это что, в насмешку над церковью?»
Так и завертелся на языке вопрос: «А вам хочется наоборот: дочери любимой — три талера, а вам, лгунам,— двадцать тысяч? У Христа и трех талеров не водилось».
Но поостерегся епископского секретаря, строчившего протокол, и смягчил объяснение: «Мне в голову не пришло, что нашей церкви нужны деньги». Два ксендза вспыхнули возмущением, но их опередил Бжостовский: «Церкви не нужны деньги. Ей нужны доказательства веры. Вклад – порука искренности...»
Искренности! Если перевести «искренность» с епископского языка на обычный, то получится — страх, подчиненность, послушание. Только суды наши знают, сколько «порука искренности» породила несчастий и убийств, сколько детей стало нищими из-за искреннего родительского желания окупить на сто лет вперед поминальные пения о себе, и сколько отцов, подобным образом поручившихся, искренне придушено своими детьми...
Стукнула подвальная дверь, и шаркающие шаги стражника объявили начало тюремного дня. Сейчас стражник откроет общую камеру, пошлет двух смирных мещан таскать дрова к печкам, а сам проверит остальных узников на предмет здоровья — кто жив, кто помер, кто повесился, потом скажет безропотному Ромеку вынести из комор ночные ведра, а некоего Синицу отправит за похлебкой в корчму. Потом остывшую эту в глиняных мисках похлебку стражник подаст, и еще вечером дадут по миске похлебки или щей. А все время между кормлениями — твое, погружайся в свои думы, вспоминай свою судьбу...
II
В маршалковском остроге народ собран отпетый — меньше, чем виселица, никому не грозит. Помимо стражника, пожалуй, один Ромек знает, кто и за что жительствует в коморах перед судом и казнью. Унося и возвращая ведро, Ромек задерживается в коморе и становится говорлив, но скорее из надрывающего его страха. Всех обитателей подвала он знает в лицо, и все, что знает, торопливо выкладывает, как бы отыскивая в чужих грехах облегчительные свойства для своего.
Есть в тюрьме два ночных грабителя, обдиравших случайного встречного донага, а потом резавших ему горло и бросавших жертву через забор на усмотрение псов и хозяина... Есть некая пани Болеслава, державшая мужа в погребе, чтобы не мешал ей веселиться, где он, надолго забытый, умер от голода, слыша над головой шумные пиры супруги с очередным аморантом. Теперь она ежедневно призывает ксендза, опекающего узников, и кается, кается, а ксендз Петр просветляет ее душу к такому раскаянию, которое позволит с радостью почувствовать на шее петлю...
Есть некая старуха, как говорит Ромек, — ведьма, напустившая порчу на кур. Они передохли в один день на целой улице. Старуху пытали, желая установить, какой вред она еще нанесла людям, и, естественно, открылись любовная порча, внезапные смерти по тайным заговорам и кое-что другое, столь же вредное. К ведьме тоже приходит ксендз Петр, уговаривая раскаянием избавиться от бесов и облегчить душу…
Столяр Синица, которому доверяют ходить в корчму, поджег двор соседа, который получил выгодный заказ на костельные лавки. У соседа сгорел весь запас сухого дерева, а заодно и пьяный подмастерье, отсыпавшийся в хлеву. Но Синица надеется отделаться штрафом, потому что нашлись люди, которым известно, что подмастерье был близок к «польским братьям», а значит сам был еретик...
Есть молодой шляхтич, зарубивший при выходе из костела жениха девушки, которая отказала на его предложение. Он не унывает, ему весело, что счастливый соперник уже спит вечным сном в могиле, а невеста, обидевшая его, осталась вдовой, не дойдя до брачного ложа...
Есть корчмарь, отравивший неизвестное число одиноких чужеземцев. Его долго пытали, чтобы установить количество погубленных душ, и с каждым разом открывались все новые злодейства. Теперь корчмарь, по примеру Синицы, утверждает, что подливал яд только лютеранам, а жизнями католиков дорожил...
И еще сидят здесь несколько человек, о грехах которых Ромек не имеет понятия, потому что те люди молчат, словно немые, или бьются головой о стены в явном приступе безумства.
– А за что пан сидит? — спросил Ромек, когда вошел в комору впервые. — Говорят о вас, что за безбожие? Неужели так?
– Разве я похож на такого монстра? – ответил Лыщинский. – Мир наш точно создан творцом.
В глазах у Ромека появилось злое неверие. Сам он попал сюда за увлечение алхимией, которое выразилось в изготовлении золотых колец из медных отливок. Ромек говорит, что был хороший аптекарь, пока в него не вселилась страсть к аурифакции. Аптеку его сожгут, жена и двое детей пойдут стоять с протянутой рукой у костельной стены. Но Ромек надеется, что ему отрубят правую руку, поскольку он был схвачен на первой фальшивке, и тогда он научится готовить лекарства левой рукой. В молодые годы он странствовал по свету и у какого-то немца учился алхимии. Так можно понять из путаных слов, которыми он описывает свою жизненную неудачу. Вначале ему нравилось смотреть, как сверкает в раскаленном тигле золотая амальгама, потом он покрыл золотом талер, потом ему приснился сундук с золотом, и он стал изготовлять кольца. Схватили его монашки, попробовавшие кольцо на зуб. Зубы у них были острые, как у мышей, и соскребли золотое покрытие...
В других коморах Ромек, видимо, словоохотлив не меньше, и все знают, что рядом с ними содержат безбожника. Это, судя по Ромеку, в десять раз повышает мнение каждого о себе — есть, оказывается, и худшие злодеи, которых попутали не бесы зависти, блуда, корысти, а главный враг рода человеческого принял на свою жуткую службу... Как легко может утешиться человек, если видит себя в бедствиях не исключением, если рядом страдают такие же обреченные, кому не удастся вернуться из подвала в свой дом, и особенно если есть существа, падшие в глубокий мрак греха...
Вот такая здесь компания, в маршалковской тюрьме. В виленском епископском подземелье он был один. Возможно, поэтому держали его недолго. Недели не прошло - уже и суд. В главном кресле не Бжостовский, а инфляндский епископ, близкий друг и любимец короля Миколай Поплавский, самоуверенный, крайне довольный, почти счастливый. И весь духовный суд как-то радостен, словно пришли на долгожданный праздник. Это попозже стало известно, что им грезилось. Облепили в два ряда зал по всем четырем стенам, тишина кладбищенская, все вышколены, никто лишний раз не вздохнет, без знака рта не раскроет. Тошно стоять посреди этой стаи, да и кормили все то заключение через день водой с сухарями. Скоро ноги устали стоять, одна мысль только и беспокоила — не грохнуться бы перед этой толпой в обморок, чтобы не истолковали, как страх.
Поплавский перебрал пальцами по столу и сказал с ленцой без долгой преамбулы:
Лыщинский, мы отдавали твою рукопись на прочтение самым авторитетным людям. Теологический факультет виленского университета однозначно определил содержание этого трактата как дерзостный и наглый атеизм...
(Милость для атеиста)